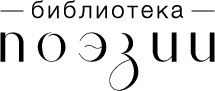Часть первая.
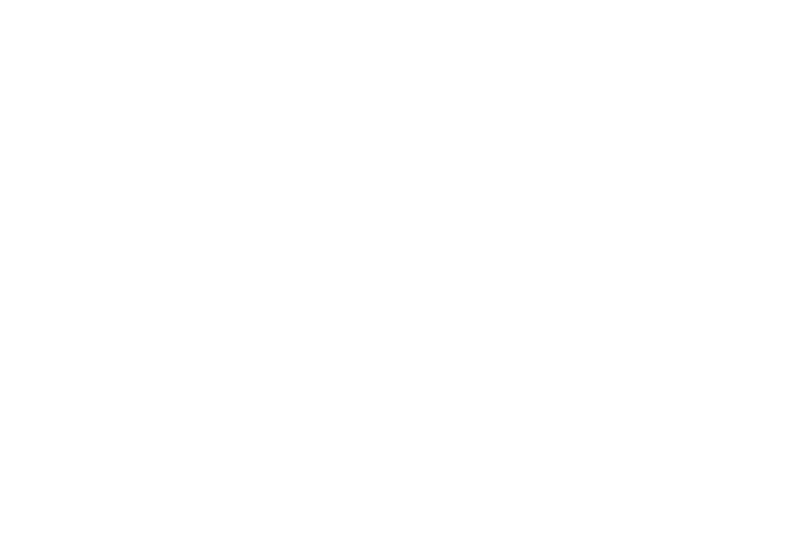
Меня вообще всегда волновал этот момент пересечения границы алфавитов, фонетик, исторических семантик: написать новеллу транслитом, подделаться под шекспировский сонет или сгенерировать додекафонную матрицу на основе джойсовского материала казалось мне по первости настолько же естественным, как и представиться европейским модернистом, заговорившим вдруг на русском языке.
Основной круг моей работы наметился уже тогда, его эпицентром стала западная поэзия середины XX века. Безусловно, это была очевидная точка входа для неофита: что-то уже существовало по-русски, но многое ещё ощущалось необходимейшей новизной. Однако наверно есть что-то и в самом этом историческом моменте, «нулевом часе» модерна, времени кризисов и надежд, перелома утопий и окончательного перехода к поздней фазе модернизма, что с самого начала затронуло во мне струны более значительные, нежели просто привычка следовать руслу рецепций. Почему поэзия эпохи mid-century стала так важна для человека моего происхождения и темперамента на рубеже первого десятилетия нового миллениума — вопрос для отдельной беседы, но наверно, так и складывается исторический опыт литературы.
Если говорить о конкретных примерах, то, по-видимому, движение перевода начинало происходить в тот момент, когда я сталкивался с одним из двух типов читательских переживаний. С одной стороны, я попадал в безоговорочный плен к поэтикам, в которых мне слышалось что-то чуть ли не родное, — и так начались мои переводы из поэзии англоамериканской (Тед Хьюз, Фрэнк О’Хара, Луиза Глик), немецкой (ранний Целан), французской (вольное прочтение Бодлера). Какие-то проекты остались незавершёнными, но шли примерно в том же направлении (как, скажем, попытка переписать поэму Кольриджа языком русской поэзии нулевых). Где-то рядом маячила и проза, уже тогда, впрочем, проявившая для меня свою хищную требовательность: прозаический абзац выстраивается из куда большего числа факторов и труд по настоящей его реконструкции на другом языке для меня куда более неподъёмен, нежели перевод поэтической строфы, в которой всё решается артистизмом игры стиховых рядов и анжамбеманов. Так или иначе, пару прозаических вещей мне сделать удалось: рассказ Джанет Фрейм и подборку из дневников Дж. М. Хопкинса.
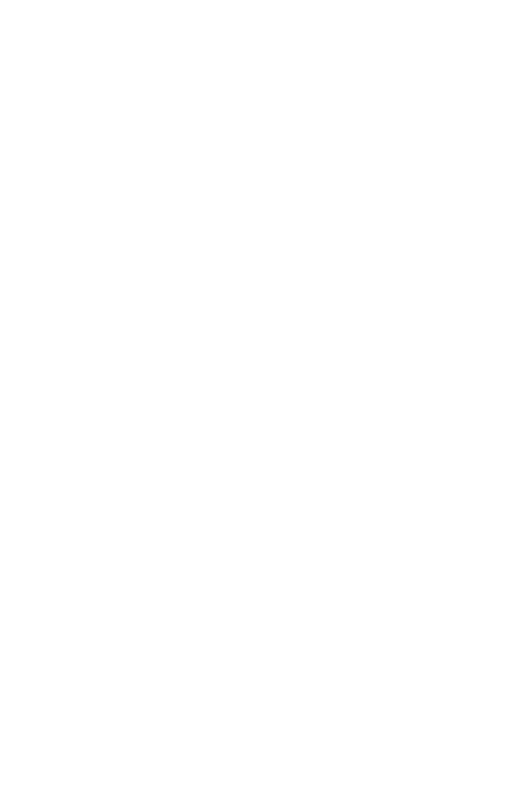
С другой стороны, я изначально умел безошибочно поддаться
и противоположному импульсу — взяться за нечто на первый взгляд максимально чуждое, в чём, однако, какой-то едва уловимой интуицией предчувствуешь возможность не просто сближения, но совместного выхода
к пространствам, доселе тебе неизвестным, но в которые ты можешь, хочешь
и должен перейти. Так произошли мои первые опыты с Беккетом, Стайн, Грифиусом — и тогда же завязалась моя работа с американскими поэтами языковой школы.
В общем, о какой-то конкретной линии в те ранние годы говорить не приходится. При явной всеядности моих тогдашних интересов видно, что речь идёт о вполне себе респектабельном наборе практик и голосов, уже более-менее существовавшем в ту пору на карте общественного внимания, пусть и не во всём своём диапазоне сразу. Не то чтобы этот список обязательно ожидался от начинающего переводчика именно в таком виде, но подобная добропорядочность образованного мальчика из приличной семьи всё-таки встречалась с пониманием и поощрением, да и мои подходы к переводу по преимуществу пытались тогда следовать подсказкам и наводкам старших — в тех редких случаях, конечно, где тычкам пальцев по разным раскладкам клавиатуры удавалось стать чем-то большим, нежели слепой сарабандой котячьих носов, то и дело норовящих раскокать своё блюдечко мыслей, разливая молоко слов по грубым доскам реальности. Резкость метода и чёткость подбора — если о них вообще приходится говорить — явились позднее, вместе с осознанием необходимости свыкаться с тем, что некоторые из развиваемых мною принципов (не говоря уже об избираемых авторах) могли бы привести в ужас былых наставников.
Отвечая на предыдущий вопрос, я мог создать у читателя ощущение, что перед ним какой-то совсем разбойник, всё переиначивающий под себя как левая нога захочет. Я не то чтобы отказываюсь от мантии такого переводчика-еретика и был бы, наверно, даже ею польщён, но вынужден признаться (или: не могу не заявить), что меня интересует только тот разбой, который чинится из точки предельной ответственности.
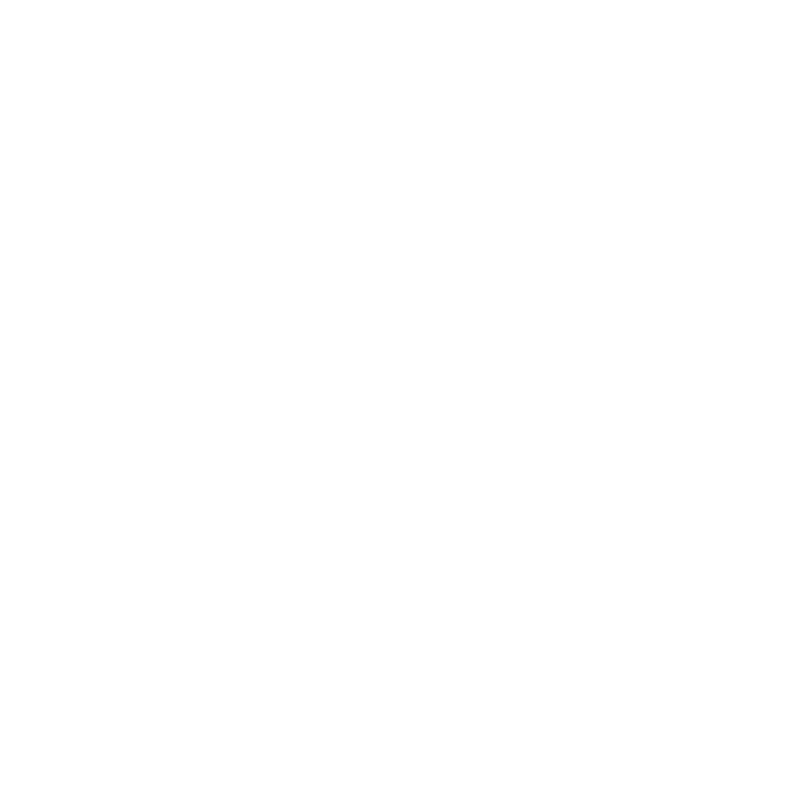
Чтобы пояснить это, мне нужно описать одну очень конкретную и притом возможно чуть неочевидную вещь, сыгравшую ключевую роль в моём становлении. Я типичное существо известного промежуточного рода — мало что поэт-переводчик, так ещё и филолог. Перевод и переводоведение моя первая университетская специальность. Я выученик наследников советской переводческой школы, прошедший годы муштры почти во всех возможных жанрах и форматах. На эмпирическом уровне то, чем я занимаюсь, допустим, в своих переводах Стайн, лишь «высшая степень» работы, которую я выполнял, переводя документации по нормам пожарной безопасности, презентации с планами региональной коммерческой застройки, статьи по истории китайской педагогики, не говоря уже обо всяком устном толмачестве на гастролях той или иной глухой босоногой перкуссионистки или на выездных переговорах инженеров цеха по метеософтверу. За свою, слава богу, недолгую карьеру профпереводчика я смог исполнить ряд подобных заказов, только потому что мне не просто подвесили — но намяли, растянули и выгладили в альма-матер два языка, родной да первый иностранный. Этот опыт (наряду с проведённым за скрипкой детством) никогда не даёт мне забыть, что переводчик — интерпретатор, interpreter, в том смысле что «исполнитель» — со всей глубокой диалектикой, какой это понятие наделено в театральных и музыкальных искусствах. Оригинал — он ведь и немая партитура, которую ещё только предстоит исполнить. Но и переводчик — с определённого ракурса не более чем маска, всякий раз новая, надеваемая по случаю, ищущая приспособить свою виртуозность к нужным задачам.
Все эти профессиональные навыки впоследствии, разумеется, шлифовались многолетней практикой художественного перевода, в том числе работой с замечательными редакторами, которым я обязан едва ли не больше, чем университетским педагогам. Этот кажущийся обыденным путь накладывает, однако, свою идеологическую деформацию.
Я был вышколен системой, которая точно знает, как надо, и которая умеет насадить соответствующие этические мерила. Я физически, скажем, с трудом переношу буквализм в работе коллег, пришедших к переводу дорогой более самостоятельной. Как историку литературы, мне очевидна ценность подобной практики, но на то, чтобы разучиться демонстрировать аллергию при виде очередного притяжательного местоимения в русском переводе, у меня ушли годы.
Это не совсем снобство, потому что от ошибок не застрахован никто, и я, увы, нисколько не могу претендовать на то, что освоил всю разветвлённую систему норм отечественной школы перевода в идеале, просто некоторые предрассудки были восприняты слишком глубоко. Более того — как раз-таки поэтическому переводу меня не учил никто и никогда, и в результате неосвоенным в моём случае оказалось центральное поле применения усилий советских переводчиков поэзии, а именно рифмология. Рифмованной поэзии я так переводить и не научился, так что нос задирать было бы не с чего. Куда важнее другое: годы упражнений и подробного теоранализа научили меня жёсткому представлению о том, что такое максимально удачный переводческий эквивалент. Все переводы, с которыми я сталкиваюсь (включая свои), я внутренне оцениваю по сей деспотической шкале.
На эту академическую основу, однако, накладываются два других глубочайших моих убеждения. Как лингвист — да и просто как человек, воспринимающий всякий, в особенности иностранный текст на предельно тактильном уровне, — я свято убеждён в том, что перевод в принципе невозможен. «Let us go then, you and I» — можно изобрести весь мир заново и пересобрать целые социумы на новых основаниях, но нельзя передать колдовскую ноту этой, казалось бы, простейшей фразы во всей её абсолютной полноте. (А с другой стороны — насколько прекрасен, томительно взвешен «перевод» Дашевского: «Ну что ж, пойдём. И может быть, я встречу…») Как поэт же — да и просто как читатель, встречавшийся в своей жизни с бесконечно талантливыми переводами, — я не просто знаю, что эта работа возможна, — где-то в глубине, втайне от себя, подозреваю, что я даже верю в идеальный перевод. Более того — именно невозможность полного перевода и толкает нас снова и снова на переводы частичные. Эти непереводимые места не дают покоя, мучат во снах, вторгаются непрошеными цитатами в бытовую речь. Перевод невозможен — и поэтому необходим. Оригинал сакрален — но сакральна и маска, чьим ртом вещает иное.
На практике это сказывается в целом ряде подходов, к которым я обращаюсь в своей работе. Идеально точный перевод остаётся моим непререкаемым господином: лишь памятуя о его владычестве, я позволяю себе пускаться в более опасные связи с текстом. Я часто стараюсь переводить так, как это делали мои учителя, — так, как это могло бы быть напечатано в какой-нибудь серии «Сокровища лирической поэзии» или журнале «Иностранная литература», если бы их в жизни могла заинтересовать такая поэзия, какой я занимаюсь. Я пользуюсь и разными другими, более «террористическими» методами — скажем, в духе «минус-переводов» Дашевского, заранее сдаваясь и заключая с собой тот или иной пакт: здесь я переведу только звук, или только графику, или только смысл, или только аллюзию. Я люблю обращаться как к игровым, комбинаторным переводам, так и к романтической традиции вольного переложения. Но спрос с результата всегда один: нашёл ли ты оригинальное созвучие или просто воспроизводишь какое-то клише, вывел ли авторские фигуры в режим парения, аналогичный по интенсивности оригинальному, или просто выбросил их в открытый космос на авось.
Мне в своё время многое дал опыт перевода стихов Наталии Азаровой на английский. Во-первых, всегда полезно переводить с родного — набираешь целый багаж соответствий, которые потом можно использовать в перелицовывании чужого. Кроме того, начинаешь куда лучше понимать, что именно ты вытворяешь, переводя с неродного, когда видишь, сколько всего теряешь при переводе с русского. Во-вторых, это было настоящее соавторство с самой поэтессой (и ещё с одним переводчиком). Мы много работали над передачей азаровского словотворчества — и франкокитайские «пти-ци» раскрывались в «petits-zì», а «птичь» превращалась в «abbirdity». Особенно важно было сохранять грамматико-синтаксическую экспериментальность этой поэзии. Искус нормализации в переводе всегда огромен, но если в оригинале стоит что-то вроде «мне больно сравнение» или «мне некогда бездарность дня», то и перевод должен создавать это ощущение зависания в каком-то сновидческом пространстве между аграмматизмом и развитием языка.
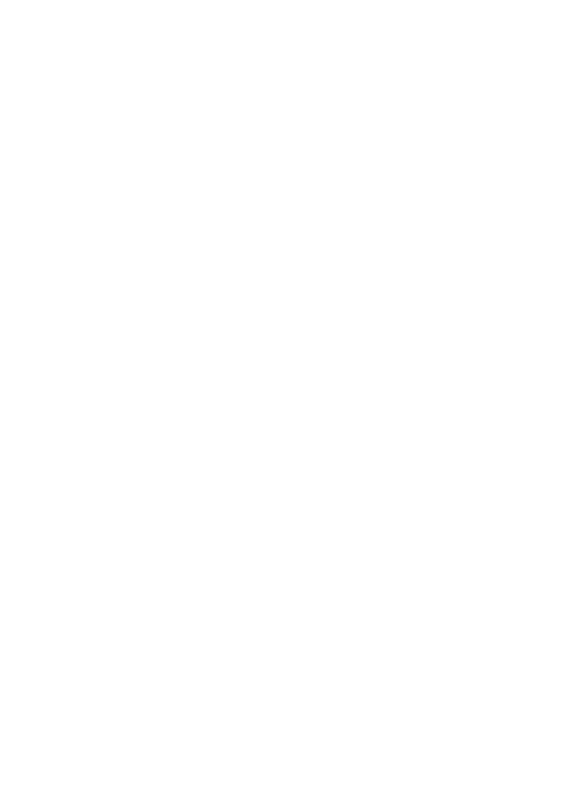
ГАДАНИЕ
НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ПЕЙЗАЖЕ», СОЛО РАВЕНСТВА (М.: Новое литературное обозрение, 2011)
Главное, конечно, чему меня научил этот проект, — это отказ от дословного перевода. Ну вот стоит, скажем, в оригинале: «косули ласковые смысла» — и что, так и будем переводить, «pettable roe-deer of sense»? Буквализм убивает поэзию — в этом смысле я прожжённый формалист. Читателю безразлично, каких животных хорошо было гладить воспевавшему косуль Бёрнсу и как семантика связана с касанием согласно посулам той или иной лингвистической теории. Нет, важно, какой художественный эффект создаётся тем или иным явлением в тексте. Можно было бы подумать об игре слов: a fawn — оленёнок, to fawn — ластиться. Можно было прислушаться к зауми, проглядывающей сквозь эту строку (ка-кавы ли-ла су-смы), и решиться отразить её путём омофонического перевода — расслышать что-то столь же поэтичное в этих словах, но на английском («kazoo like lilac, ivy, mistle»?). Нашей миниколлегии, однако, хотелось синтеза всех уровней, чтобы звукопись была оправдана поэтической логикой, чтобы смысл рождался из звука. Мы пришли в итоге к варианту «the gentle mammals of meaning» — мне очень нравится, как в нём сквозь плавную мелодию вырастает ощущение настоящего чуда. Ушли чудесные «косули», но появившиеся «mammals» могли бы сойти с любой другой страницы этого автора. Я, разумеется, всё это прекрасно знал и до Азаровой, но часто робел, не решался так «своевольно» обращаться с текстом — здесь же стало ясно, что если ты не готов принять вызов стихотворения, включиться в священную игру, на кону в которой должно стоять всё, то за перевод можно не браться.
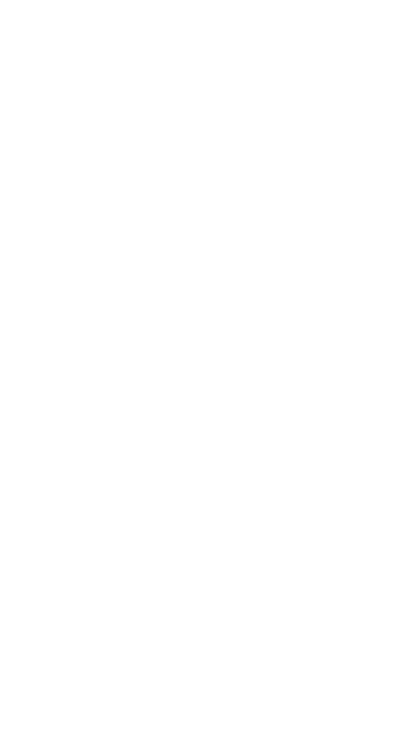
Куда более сложный случай — работа над «Нежными пуговками» (1914) Стайн [1], где моей задачей остаётся соблюдение максимальной органичности при отражении всего взрывного потенциала этой удивительной поэзии. Каламбуры лишь одна, частная проблема этого перевода. Взять один из моих любимых фрагментов под названием «A cutlet», весь состоящий из одного предложения: «A blind agitation is manly and uttermost». Поразительный финал: сквозь это редкое слово, uttermost (outermost), проглядывает и utmost, «крайне», и to utter, «произносить», и — в американском произношении — an udder, «вымя». Общая экзальтация, видимо, подпитывается фразеологизмом «at one’s uttermost», который Оксфордский словарь определяет как «at the utmost point of test or danger». В моём переводе — «Слепая ажитация это так по-мужски и на грани» — в конце оставлена всего пара семантических оттенков, но ничего, зато мы потом в «Milk» передадим «climb in the whole utter needles» как «влезай по самое в целое в имя иголки». Кто-то, может, и стал бы переводить отдельными фразами — «залезай в цельное произноси иглы», но мне всегда интереснее увидеть связность.
Есть там и более занятные случаи, вроде эпизодов, написанных на какой-то смеси английского и французского: «Please could, pleasecould, jam itnot plus moresit in when». Переводить словарные значения здесь было бы бессмысленно — эти слова не за тем в ряд поставлены. Путём разнообразных трансформаций, от кручёныховских сдвигов до омофонического перевода, мы получим что-то вроде «А можно, а можно, жамкну плюс мер сидь когда». Но главное испытание переводчику — это даже не сохранить поэзию, скажем, в тех моментах, когда Стайн вдруг пускается в свои сложнейшие формулы бытия (допустим, мол, что одно есть другое, тогда третье и четвёртое), — а эпизоды [2], в которых она выстраивает единую, гибкую музыкальную тему:
Зарыть скромных курей, поднять старых перьев, стать вкруг гирлянды и запечь заноз жерди, сулить перерыв и селиться спроста, сдавать друг друга, суметь сберегая спростей, соблюдать самобытность и не становиться слепей, не сластить чтоб темней и прочесть покрасней, иметь цвет подобрей, собрать чего на обед, пребывать вместе, не смущать кто срамнее, не изгнуть сахарнее, идти дальше худея, нарастать в покоящейся передышке чтоб творить снурок не тусклее.
Вообще моя работа, конечно, покоится на многих других плечах. Моё понимание свободы и долга переводчика проистекает из целого ряда авторских подходов к переводу в новейшей истории русскоязычной поэзии. Я стараюсь переводить Стайн так же, как Седакова перевела Рильке и Целана — исходя из внутреннего течения текста, создавая для него избирательно-сродственную среду по-русски, развивая его собственные интенции в ту сторону, куда он и сам хотел бы пойти. Ду Фу и Пессоа Азаровой, Бодлер Булатовского, Бретон Гринберга, Овидий Степановой–Осташевского, опыты Гаспарова, Дашевского, Кузьмина, Завьялова, Глазовой (называю далеко не всех) — все эти примеры широко раздвинули моё представление о возможном и необходимом в поэтическом переводе. Уверен, что со временем они встанут в одном ряду с Сапфо Вяч. Иванова и Петраркой Мандельштама. (С другой стороны — не является ли лучшим переводом Целана на русский поэзия Айги, так же как, возможно, лучшим Малларме по-русски стали оригинальные стихи Анненского?..) Из чего-то, что, может быть, менее на виду у читателей, упомяну о петербургской переводчице Анастасии Миролюбовой, у которой я в своё время учился (увы, не переводу) и чей отрывок из «Одиночеств», вышедший когда-то в антологии «Поэзия испанского барокко» (2006), я считаю лучшим из существующего Гонгоры на русском. Или о переводе Лесли Скалапино из антологии «От “Чёрной горы” до “Языкового письма”» (2022), выполненном Анной Родионовой и Антоном Тальским, где тоже, как мне показалась, взята была удивительно чистая, новая нота.
Меня всегда интересует, откуда мы черпаем, создавая и пересоздавая. Как бьёшься порой над тем, чтоб установить грань между правильной и клишированной речью, так ещё сложнее нащупать грань тайную между новым голосом в переводе и бессознательным повторением той или иной модернистской поэтики, уже присутствующей на русском. Одна из областей моего особого внимания при переводе — это стилистика, соприкосновение социальных регистров языка с историческими традициями поэзии в месте персональной речи. Я стараюсь внимательно относиться к подобному коллажированию, заштриховывая в своей работе одни переходы от интонации к интонации и подчёркивая другие. Мой личный вокабуляр, увы, довольно ограничен, а стиль, как читатель, конечно, уже заметил, мягко говоря, расхристан. Ну, словари нам в помощь, а так — остаётся надеяться, что в монотонную манеру, равную себе в переводах любого следующего автора, я ещё не впал и что внимательной редактурой можно добиться какой-то более уравновешенной литературности от моего языка. Впрочем, одно дело монотонность, другое — постоянство характерного актёра, идеально выражающего своё амплуа, — здесь я не имею ничего против. Литвинову любишь именно за то, что даже когда она просто играет себя, высвобождается мощное творческое начало, вдыхающее новую жизнь в исполняемый текст. То же приложимо и к какому-нибудь Пастернаку — я далёк от того, чтобы недооценивать его переводы только за то, что западных классиков в них меньше, чем советского модернизма.
Вместе с тем мне важна «прописка» переводчика, в переводе должны оставаться знаки, указывающие на происхождение оказавшегося перед читателем текста. Иногда это может быть какая-то литературная или даже собственная автобиографическая ассоциация, которой ты насыщаешь текст даже в отсутствие чего-то такого в оригинале. Иногда это следы идиолекта переводчика — я, например, совершенно осознанно, если такой выбор вдруг встаёт, перевожу на петербургскую норму — фонетическую, орфографическую, лексическую. Я есть я, и нет нужды прикидываться нейтральным надперсональным речевым ртом — если только какой-то конкретный участок текста не взывает к такому приёму или к какой-то другой маске. Многое в моём стилистическом репертуаре происходит из умопомрачительной идиоматики моей матери, где в сжатой форме бурлят настоящие вихри разнородных социальных стихий — обороты, акценты, которые мне в жизни не пришло бы в голову употребить в собственной речи, но которым нужно уметь разрешить просочиться в перевод там, где это необходимо. Переводя — изображаешь в лицах. Я часто спрашиваю себя: а как бы я сам сказал на этом месте? А как моя мать? А кто-то другой? Как сказал бы Некто? Никто? Нужно услышать эти голоса, нужно точно увидеть вырастающую за каждой фразой сценическую ситуацию, разобраться в «предлагаемых обстоятельствах». Переводчик (комедиант, поэт) знает, что произносимые им слова уже употреблял кто-то другой. Кто? Как? Что из сказанного до тебя ты можешь сделать своим, а что в твоих устах уже живо не прозвучит? Вообще важна рефлексия — в первую очередь учишься именно этому: понимать, зачем и какой именно шаг ты совершаешь в каждый конкретный момент. Всегда должен быть какой-то мандат, какое-то понимание того, что эти стихи взывают и к такому диалогу, что вторжение оправдано каким-то художественным смыслом.
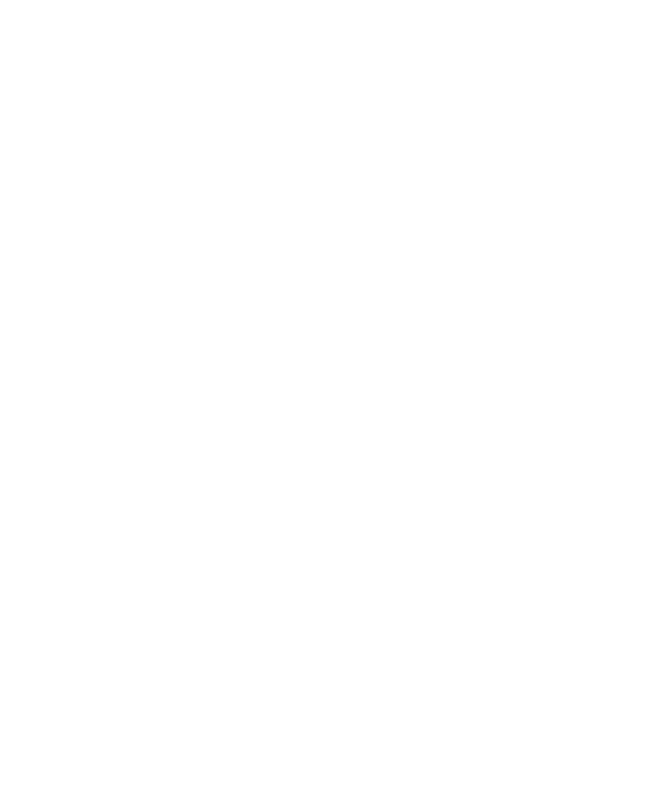
В конечном счёте, думаю, меня занимает только одна дилемма: 1) звучит ли перевод так, как если бы он изначально был написан по-русски? 2) не обманывает ли он при этом читателя, всегда должного помнить — нуждающегося в ощущении, что перед ним рукотворный слепок с иного? Все сдвиги, все деформации, все игровые приёмы должны быть развитием внутренней логики принимающего языка — так же, как это изначально состоялось в оригинале.
И одновременно стихотворение должно нести нам что-то, чего по-русски ещё не было и без него бы не появилось, должно по-русски разыгрывать свою пантомиму чуждости.
от Пауля Целана до современных американских поэтов. Мне кажется, такой подход можно назвать экстенсивным, так как работа ведется не только с текстами разных авторов, но и целых языковых контекстов и культур. Что, на ваш взгляд, объединяет всех тех, кого вы переводите? Как вы думаете, для удачного перевода должен ли оригинал нравиться переводчику?
Да, вы, наверно, правы, мне не сидится в зоне моей первостепенной ответственности – новейшей поэзии США, всё время несёт в языковые пространства, где я куда меньший специалист. Мне сложно судить, есть ли какая-то интегральная составляющая во всех, к кому меня прибивает волной переводческого влечения, это виднее со стороны. Наверно, можно скорее говорить о том, что есть ряд традиций и сюжетов, которые меня интересуют. Это линия высокого модернизма в его позднем, кристаллическом изводе (Целан, Жан Дэв, Барбара Гест, Джек Спайсер, Роберт Данкен, Майкл Палмер, Норма Коул) и часто с ней переплетающаяся авангардная традиция (Стайн, О’Хара, Фридерика Майрёкер, Ларри Айгнер, Джером Ротенберг, Лин Хеджинян, Рон Силлиман). Меня волнуют романтические и символистские корни этих ответвлений — и наверно, в своей работе я стараюсь акцентировать как актуальное их звучание, так и тот опыт поэзии прошлого, который благодаря ним от нас никуда не уходит. В этом смысле для меня особенно важны фигуры-смычки, такие как Джон Эшбери, соединяющие в себе противоположные полюса модерна. Ранний Эшбери и Стайн — долгосрочные переводческие проекты, с которыми я, пожалуй, более всего готов идентифицироваться. Именно в этих текстах, как мне кажется, мне иногда удаётся заставить язык говорить так, чтобы получалась какая-то новая, самостоятельная поэзия, необходимая русскоязычному контексту.
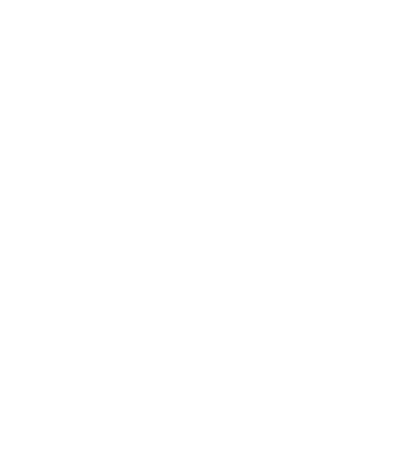
Есть, конечно, и дополнительные соображения — так, отдельное внимание я уделяю квир-традиции, реконституция которой видится мне всё более и более насущной задачей (отсюда О’Хара и другие). Есть какие-то тематические области, явно меня занимающие: помимо эротической поэзии и поэзии озарений, природы, для меня всё важнее становится последнее время поэзия быта. Есть вопросы более внешние: американская традиция богата — что мы знаем, например, о поэзии коренных народов этого континента? Я люблю думать и о группах, средах, городах — поэзия Нью-Йорка или Сан-Франциско, стараюсь работать и в сторону представления русскоязычному читателю и совсем новых голосов, сложившихся уже в последнее десятилетие, — пара таких авторов, например, присутствует в моём «портрете переводчика» [3] в журнале «Воздух».
Кроме того, есть, так сказать, ещё разный этос переводческих задач. Одно дело полностью посвящать себя вдумчивейшему переписыванию сложнейших поэтических форм на русском, как это происходит у меня в редкие периоды концентрированной работы над Стайн, — и тогда на несколько недель ты «уходишь из жизни», перевод происходит круглыми сутками (даже во сне). Другое — работа более спорадичная, прикидывающаяся менее требовательной: я очень люблю, например, переводить не приходя в сознание — по вечерам, когда уже нет никаких душевно-умственных сил на что-либо человеческое, а переводить почему-то всё равно получается, пусть и в черновом виде.
Но часто переводишь с отчаяния. Так, лёжа с затянувшейся травмой ноги в пандемию, я стал переводить стихи Клейтона Эшлемана из книги «Под земным арестом» («Under World Arrest») [4]: мистические фигуры поэта, представлявшего себя в начале девяностых годов в плену у мировой преисподней, оказались для меня внезапным ключом к тому, чтобы иначе посмотреть на опыт планетарного заточения, который, как тогда казалось, разделяло всё человечество.
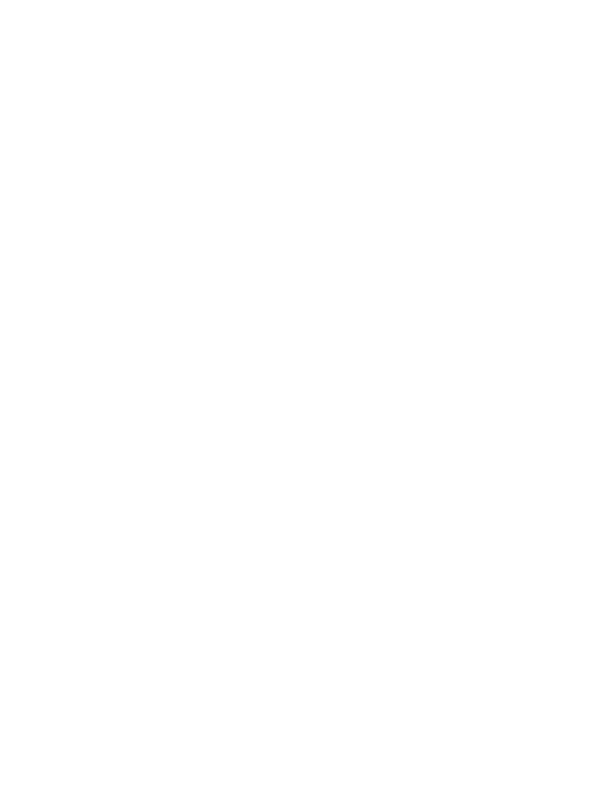
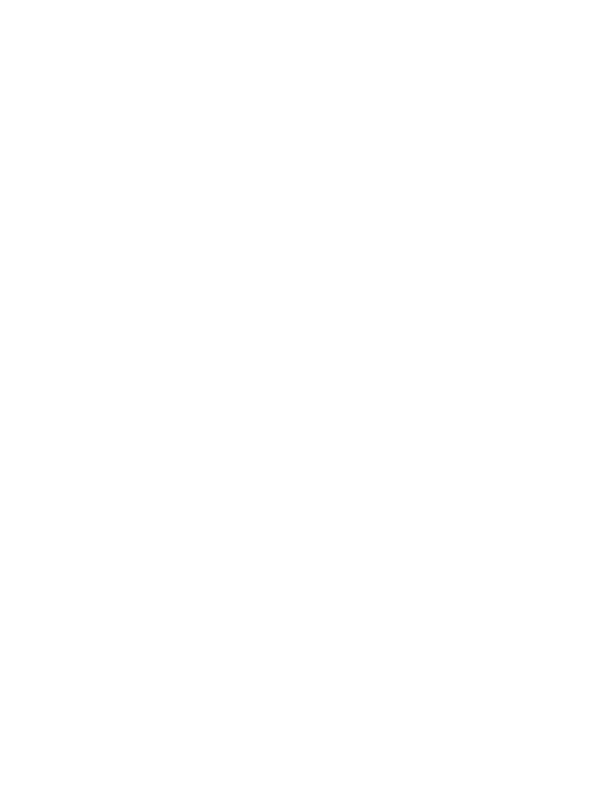
Другой пример: через пару месяцев после 24 февраля 2022 года я начал переводить стихи из книги Джерома Ротенберга «ПОЛЬША/1931» [5]. Уникальное историческое воображение Ротенберга хороший пример разглядывания генезиса катастрофы. В этих стихах поэт обращается к своим истокам — восточноевропейскому еврейству накануне Второй мировой — и воссоздаёт этот утраченный мир без тени сентиментальности. Помимо сквозящих в книге призраков насилия, без труда рифмовавшихся с новостными сводками, я нашёл тогда в этом жесте поэта нечто родственное нашему собственному моменту, когда история последнего десятилетия в одночасье оказалась перепахана гусеницами бронетранспортёров. Или, скажем, моя работа этого лета по переводу последней книги стихов Пауля Целана [6], вращающихся вокруг его позднего романа с подругой молодости и визита в Израиль в 1969 году во время Войны на истощение с Египтом.
Я вернулся к этим стихам потому, что сам стал работать над парой эротических фрагментов и вдруг сообразил, что слышу в них какие-то целановские ноты. Но решение перевести и откомментировать эти стихи именно сейчас, конечно, в итоге было продиктовано текущей волной израильско-палестинского конфликта. Стихи Целана — антисиониста, мечтающего о мирной родине для выживших в Холокосте, — напоминают нам о том, что болезненные противоречия государств модерна никуда не уходят и что мы не можем себе позволить не вглядываться в них со всею возможною пристальностью. Не будет никакого «потом», в которое история с нас, якобы, спросит за наши способы думать и говорить: счёт выставлен уже сейчас, он предъявляется всякий раз, когда мы разбиваемся об очередные скалы бесчеловечности, блуждающие по океану истории человечества. Если переводчик хоть что-то собирается на судне своём перевезти, он обязан твёрдо знать лоцию зла в окружающем его слова мире — на теле своём пусть наколет её, если придётся, — на телах своих слов, наконец. Карта меняется постоянно, но здесь уже разбивались другие; свет от гниющих руин их усилий несилен, нового курса в нём не проложишь, но без ясности, приходящей из прошлого, мы бы ослепли совсем.
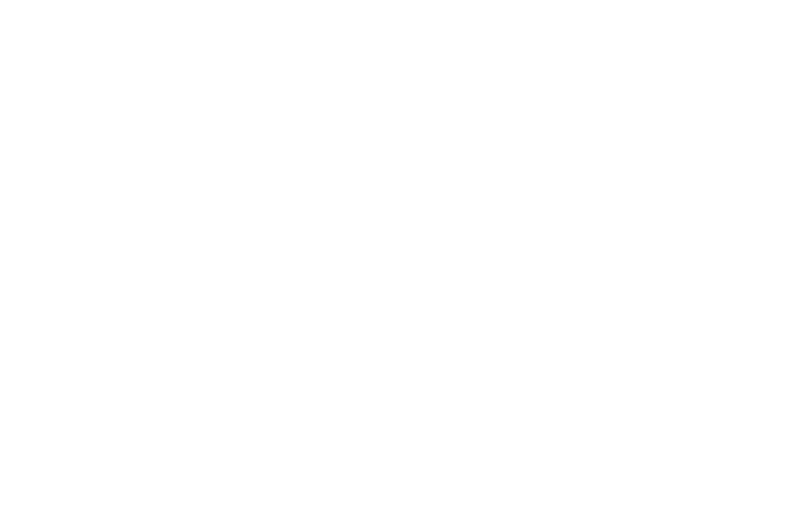
Что же до всяких «нравится», мне кажется, так вопрос не стоит. На это уходит столько сил и времени, что садиться за перевод каждого понравившегося стихотворения смог бы только бессмертный (в каком-то беньяминовском мире, наверно, всё уже и переведено на все языки — руками таких вот божеств). Есть некие внешние соображения, как те, что описаны выше. Мандельштамовский девиз «этого нет по-русски — это должно быть по-русски» нисколько не потерял над нами своей власти. Бывают и вопросы более технического толка — например, есть ли для передачи этой поэзии известные мне средства в русском языке? Подозреваю ли я, в какую зону языкового воображения нужно забуриться, чтобы там найти что-то новое для отражения взволновавшей конструкции? Я несколько лет не мог подступиться, например, к Данкену, все мои методы, ни вдохновенное вчувствование, ни учёное изыскание, не помогали, — пока я наконец не сообразил, что нежная современная речь для него не работает, что это поэт, орудующий глыбами архаической, романтической поэзии, из неё высекающий искры небывалого языка. Когда стало ясно, что ориентир по-русски примерно Хлебников–Шварц, вдруг перевод пошёл.
Но главное — это встреча. Электрический разряд, пронзающий тебя при встрече со стихотворением. Не просто анамнезис, но анамнезис, совпадающий с анагноризисом, — узнавание неузнанной было неузнаваемости. Первая боль любви всегда оттого, что ты вдруг понимаешь, что не имел её раньше. Это ощущение гипнотической чуждости другого вкупе с острой нехваткой, неполнотой в родном языке из-за невозможности пережить в нём новую встречу и рождает роковое движение к переводу. Маска сползает, ум обуреваем смутными подозрениями и импульсами, на ухо шепчут что-то мучительно неразборчивое норны — ещё не это, уже не то. Так начинаются романы не на жизнь, а на смерть — люди, переводящие избранных по полвека, как это произошло в случае Пьера Жориса, впервые засевшего за переводы Целана на английский в 1968 году и переведшего в итоге к столетнему юбилею поэта в 2020 году весь целановский корпус.
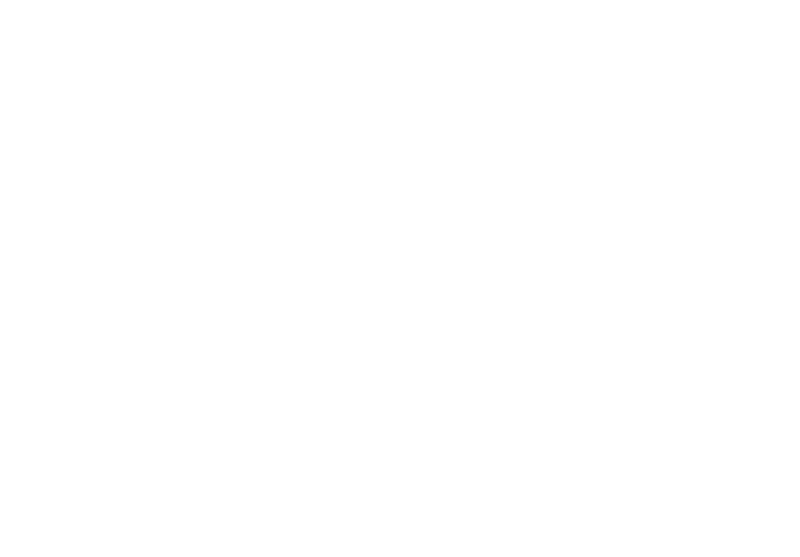
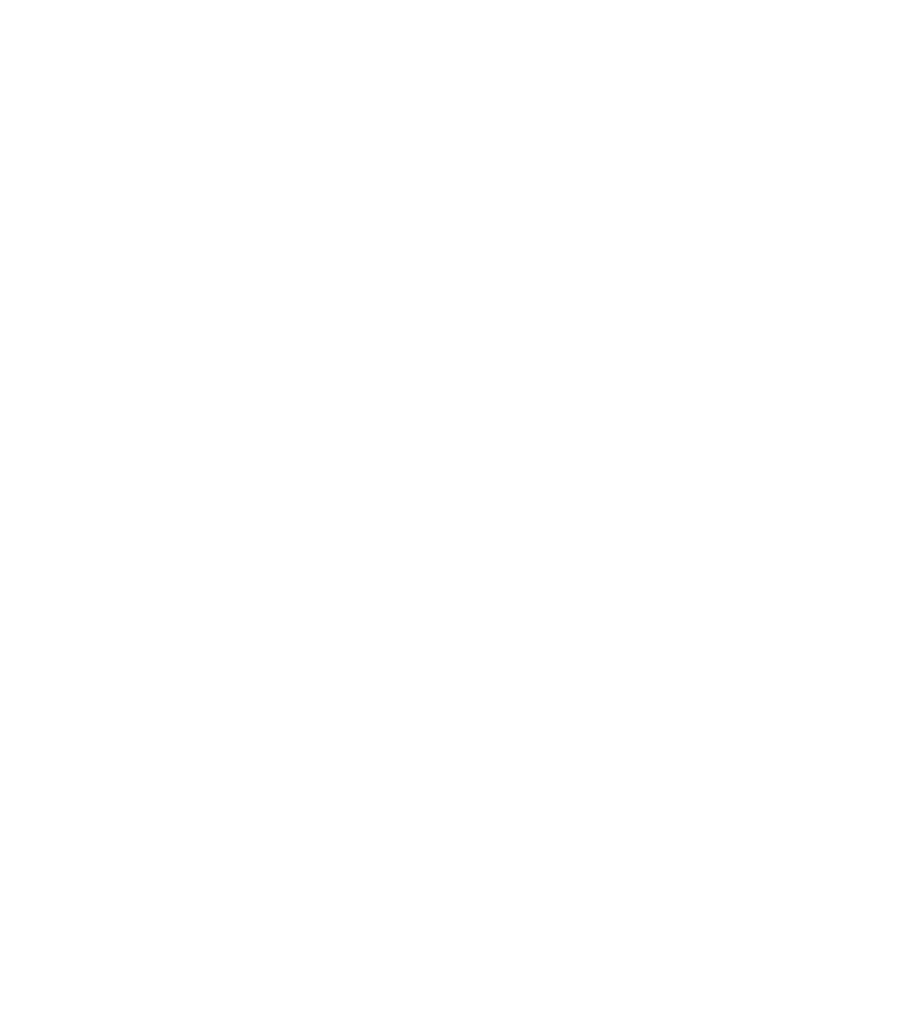
XIX в. Эрмитаж
Иван Соколов — поэт, переводчик, филолог, критик. Автор четырёх книг стихов. Стихи, переводы публиковались в журналах «Воздух», «Митин журнал», «Зеркало», «Носорог», [Транслит], на порталах «Грёза» и др.; критические статьи, рецензии – в журнале «Новое литературное обозрение», на сайтах Colta.ru и syg.ma. Переводил на русский дневники Дж.М. Хопкинса, «Апельсины» Фрэнка О'Хары, поэтов «языковой школы» и др. В 2025 году перевёл книгу Рона Силлимана «You» («Носорог»). Финалист премии Драгомощенко (2016). Резидент Виллы Саркиа (Финляндия, 2015) и Балтийского центра писателей и переводчиков (Швеция, 2019). Участник русско-немецкого поэтического проекта «Поэтическая диВЕРСия» (2015), переводческого семинара американского ПЕН-центра «Writers in Dialogue» (2020) и др. Член редколлегии портала «Грёза».
Примечания:
[1]: Гертруда Стайн. Объекты https://spectate.ru/stein-objects/
[2]: Гертруда Стайн. Еда https://postnonfiction.org/descriptions/edanezhnpug/
[3]: Откинувшие крышку че́репа. Новейшая поэзия США http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2021-41/sokolov/
[4]: Клейтон Эшлеман. Из книги «Под земным арестом» http://fajro.abc-group.ru/claytoneshleman.html
[5]: Джером Ротенберг. ПОЛЬША/1931 «Свадьба». Личный блог автора https://t.me/you364/142
[6]: «Поздний Целан» — спорадическая серия переводов. Личный блог автора https://t.me/you364/1415